
|
Добро пожаловать, гость ( Вход | Регистрация | Что даёт регистрация на форуме? )
| Лео |
 29.03.2015, 13:59 29.03.2015, 13:59
|
 феечка Группа: Координатор Сообщений: 21,133 Регистрация: 10-December 06 Из: Москва Пользователь №: 14 |
Астрахань. Ожившая статуя
Жил в Астрахани богатый купец Михаил Акимович Шелехов и была у него, как в сказке, единственная красавица-дочь. В 1904 году на углу Набережной реки Кутум и Старо-Птичьей улицы построил он прекрасный дворец, в стиле флорентийского палаццо XVI века. Архитектура была столь необычна, что на него ходил смотреть весь город. И было чему подивиться - статуи на крыше, изящные портики и колонны, венецианские окна, зимний сад с верхним фонарем, смотровая башня с великолепным видом на Волгу. Но дом не принес счастья Михаилу Шелехову. Вскоре после новоселья умерла от чахотки красавица-дочь, жизнь потеряла смысл. Ранняя смерть единственной богатой наследницы поразила весь город, а безутешный отец после долгих раздумий завещает свой дом после смерти на нужды «противотуберкулезного учреждения» в память о безвременно погибшей дочери. Но тоска не проходила и любящий отец заказал в Италии мраморную статую девушки с лицом любимой дочери. Михаил Акимович так и не смог забыться и утешиться после смерти дочери - проводил около статуи все свободное время и даже иногда спал рядом с ней, считая ее живой. Говорят, он попросил известного итальянского медиума воплотить душу девушки в камне, за что и заплатил чуть ли не целое состояние. Революция 1917 года перевернула привычный жизненный уклад, и в 1918 году в шелеховском доме обосновался «Комитет больных и раненых бойцов за свободу». И как в прежние времена в доме расположилась больница. Его не отдали под какое-либо советское учреждение, хотя по размерам и красоте он вполне подходил для этой роли, но видно было, что провидению именно так было угодно. Противотуберкулезный диспансер находится там и поныне, статуя девушки также стоит во дворе больницы. Ее печальное лицо прекрасно. Очевидцы рассказывают, что когда в больнице умирает какая-либо молодая девушка призрак шелеховской дочери приходит в мертвецкую и плачет горькими слезами. Иногда она заговаривает со скорбящими людьми, утешает их, а на вопрос кто она, отвечает: «Я живу здесь всегда, это мой дом...» Сообщение было отредактировано Лео: 29.03.2015, 14:00 -------------------- Однажды ученик спросил у Мастера:
– Долго ли ждать перемен к лучшему? – Если ждать, то долго, ответил Мастер.  what goes around, comes around. "Всякий слышит лишь то, что понимает" ПЛАВТ, (III в. до н.э.) |
 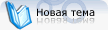 |
Ответов
| Лео |
 29.03.2015, 14:16 29.03.2015, 14:16
|
 феечка Группа: Координатор Сообщений: 21,133 Регистрация: 10-December 06 Из: Москва Пользователь №: 14 |
Святая гора
Безвестный народ, говорится в этой легенде, назвал эту гору «Святой». Был жаркий летний полдень. По ровной выжженной степи тянулся караван, направляясь к святой горе, что лежит у большого соленого озера. Это были калмыки. Предводитель каравана уверенно вел верблюдов к той части озера, где в огромном длинном овраге, спускающемся с горы, из под земли выбивались шумные, резвые ключи с вкусной и прохладной водой. Достигли ключа, люди с наслаждением припали к его приятным и холодным струям. Из толпы кочевников выделился нестарый еще человек с бритой головой,- это был лама, священнослужитель. Он зазвонил в колокольчик и воскликнул: -Люди, слушайте! Все умолкли, и он продолжал: -Пейте сами и поите скот. А потом идите на Богдо – Святую гору. Надо принести дары нашему великому Будде. Все длинной вереницей двинулись на молитву. Тропинка начала круто подниматься к вершине горы среди нагромождений скал, иссеченных ветром, причудливыми пустотами, пока не вывела путников на открытое взгорье, где далее гряда за грядой поднимались они по склону, покрытому травяным дерном. Как взволнованное море, как пена на волнах, белели на грядах полосы ковыля. А высоко в небе, над скалами, плавными медленными кругами парили два коршуна… Отсюда, с высоты птичьего полета, казалось, что прямо у подножья горы расстелилось белоснежное озеро, слепящее своей белизной и манящее путника к водной глади. Впереди шел лама в белой остроконечной шляпе с Красной кистью, в широком хитоне из красной и желтой материи. Когда они проходили мимо скал, подул сильный восточный ветер, раздались неясные звуки, похожие то на заунывный плач, то на всхлипывания и причитания. -Остановитесь, - воскликнул лама, - слышите? Это гневается на вас великий Будда, требует хороших жертвоприношений. Люди склонили головы и стали медленно подниматься на гору. На самую вершину им не разрешалось всходить – там было обиталище Будды, и туда мог подниматься только лама. Дикий пейзаж, таинственный гул – все это усиливало религиозное чувство богомольцев, вызывая священный ужас, страх перед грозным Буддой. По узкой тропинке, над которой нависали огромные глыбы камней, готовые ежеминутно упасть на головы людей, продолжали они путь за ламой. Вдруг дорогу преградили ползущие змеи, что вызвало ужас и трепет перед грозным Буддой. На выступах скалы кочевники расставили своих бурханов (божков) и долго, монотонно пели молитвы под аккомпанемент труб, бубна и колокольчиков. Затем началось жертвоприношение: в пропасть горы они бросали персидские и греческие золотые монеты и серебряные, бараньи и коровьи рога, стрелы, копья. Женщины снимали красивые бусы и бросали их туда тоже. Те, кому нечего было принести в жертву, отрывали лоскутья от одежды, заворачивали в них камешки и бросали в пропасть. Вечером, сидя вокруг догорающего костра, кочевники слушали рассказ ламы. - Это было очень давно, - говорил он, когда наши предки пришли из Монголии в эти степи. Скучно им показалось без гор, которые они привыкли видеть на Родине. Тогда великий Будда повелел святым принести с отрогов Тянь-Шаня небольшую гору. Несли гору два святых. Один из них под конец пути взроптал на непосильную тяжесть. В наказание за строптивость гора рухнула и придавила его. Поэтому восточный склон горы стал красным, окрапившись кровью святого. Гору эту назвали Богдо – то есть Святая гора. - Приехал как-то из Тибета, - продолжал лама, великий Долай-Лама. - Он лег отдохнуть на Богдо горе, и она вытянулась по его росту, потому и длинная такая. (С.Лялицкая. Озеро Баскунчак. Сталинград, 1941г.) В былинах и преданиях народа сохранились до наших дней любопытные легенды о происхождении Баскунчакского озера. Некогда, в прилегающей к озеру степи, кочевал бедняк, славившийся на всю округу своей справедливостью и радушием. Всякого, заехавшего к нему гостя, будь это знатный бай или бедный чабан, он неизменно сажал на почетное место и угощал всем, что имел. Мудрые советы, которые чабан давал своим землякам, и исключительная гостеприимность, создавали ему широкую известность и почет. Застала ли путника непогода, случилась ли какая беда или просто нужно обсудить новую весть, люди обращались к нему за помощью и советом. Часто он и сам посещал своих земляков. В дружеских беседах обсуждались степные новости, как лучше вести хозяйство и другие житейские вопросы. И, всегда, на всех кочевьях его встречали как дорогого гостя, хорошего товарища. Бас-кунак то есть главный гость, так прозвал народ своего земляка. Так начали называть кочевье, где жил этот уважаемый человек. Позже это название перешло и к озеру, на побережье которого ночевал этот человек. До наших дней название озера дошло в несколько измененном виде – Баскунчак (Андреева Е.В. Без соли не прожить. Москва, 1963г.). Озеро «Собачья голова» Когда-то, в давно прошедшие времена, случилось, что озеро Баскунчак совершенно омелело. Дно озера, образованное из соляных кристаллов, обнажилось и соблазнило ездока прокатиться по белоснежной поверхности. Какой-то лихач решился воспользоваться случаем, сократить путь. Не жалея ни себя, ни лошади, ни собаки, провожавшей его, он пустился по дну озера. Благодаря быстрому бегу и добрым копытам, конь счастливо перенес всадника, но собака, изранив ноги об острые кристаллы соли, достигла только средины озера. Потом пошли дожди. Озеро покрылось слоем соленой воды, а труп собаки, пропитавшись солью, долго уцелел от порчи. С тех пор, в течение многих лет, в бурную погоду, часто выплывала из-за шумящих волн, голова собаки, которую мог видеть каждый, кто находился вблизи озера. Вот почему «Бас-кунчак», по-казахски голова собаки, перешло в название озера (ГААО, рукопись Ф.Шперка, т.III, стр.26). Озеро слез В далекие годы около горы Богдо кочевал богатый бай. Многие косяки коней и отары овец пасли ему батраки, но самым ценным сокровищем была у него единственная красавица-дочь, обладавшая необычайно светлым умом и прекрасным характером. Наблюдая за дочерью, радуясь ее красоте, бай мечтал отдать ее в жены богатому джигиту. К юрте знатного бая со всех концов степи приезжали и сватались знатные и богатые соседи, задаривая его ценными вещами. Но он все медлил, ожидая сватов побогаче. Среди многочисленных пастухов богача был ловкий, мастер на все руки, сильный и крепкий юноша. Однажды хозяйская дочь, гуляя в степи, случайно встретилась с юношей. Юноша и девушка полюбили друг друга. С той поры они тайно встречались. Они клялись в любви, мечтали создать счастливую семью. Как-то вечером девушка прибежала к любимому и сообщила ему печальную весть. Она рассказала, что отец решил отдать ее замуж за богатого, старого и немилого соседа, который задарил отца богатыми подарками и обещал выплатить большой калым. Верный своей любви, юноша вскочил на быстроногого скакуна и помчался к кибитке хозяина. Войдя в кибитку, юноша стал умолять отца девушки отдать ему дочь в жены. Бай рассвирепел и приказал жестоко наказать нищего. От побоев юноша-пастух вскоре скончался. Девушка в глубокой скорби и отчаяния убежала к оврагу под горой, где они встречались, и стала плакать. Она так долго и горько плакала, что от ее слез потек ручеек. Слезы заполнили низину, и образовалось соленое озеро. Говорят, что и поныне, в сильный ветер, слышны глухие стоны, это плачет девушка о несостоявшейся любви (Каспийские легенды и сказки. Волгоград, 1969г., записал Н.Проценко). Проклятое озеро Было это в давние времена, - рассказывает старожил солепромыслов Мурзагалиев Джумака. Меня тогда еще не было. Об этой страшной беде рассказал мне дедушка. Жестокая засуха постигла степи Казахстана. Выгорели пастбища, опустели колодца. От бескормицы и отсутствия воды падал скот. В степи начался голод. Вместе с голодом пришел мор (голодный тиф). Люди умирали в великих муках. Сколько жизней унесло это несчастье! Там, где недавно выпасались табуны лошадей, гулевой скот и овцы, были выжжены степи. Повсюду остались запрошенные кочевья. Кочевники оставляли обжитые места, уходили к Уралу. Глава рода, аксакал Тимергали знал, что верст двести на заход солнца, находится большая русская река Волга. Над той степью возвышается гора Спящего льва, вокруг которой много ковыля, полыни и другого степного корма, Есть там лиманы и озеро с водой. Здесь можно сохранить скот. У подножья горы Спящего льва раскинулось соленое озеро, где берут соль. Мужчины пойдут ломать соль, подростки станут погонщиками верблюдов и будут вывозить соль из озера. Хоть и тяжелый труд на озере, я там, в молодости бывал, но можно будет пережить это тяжелое время. В кибитке аксакала собрались мужчины племени, чтобы решить, как пасти жизнь рода, как сохранить детей от голодной смерти. Выслушав тяжелые думы аксакала, старшины порешили перекочевать в приозерные степи. Навьючив на верблюдов кибитки, нехитрый домашний скарб, женщин и детей, двинулся народ в Баскунчакские степи. Вот уже прошла неделя, как движется этот караван, оглашая степь мычанием скота, блеянием истощенных овец и плачем охрипших от жажды детей. Жарко…Невыносимо жарко. Раскаленное июньское солнце сыплет огонь на Баскунчакскую степь. Здесь ни одного живого существа. Все, что дышит, движется, скрылось в прохладных пещерах и оврагах. Даже змеи уползли далеко в норы, такая жара царит в этой степи. Раскаленный воздух, сгоревшие травы наполнили степной воздух запахами удушающей гари. Да, это был прогорковатый угар, от которого гудела голова, перехватывало горло. Только тот, кто побывает в этих степях, - думал, повидавший на своем веку, Тимергали,- узнает, что такое степь безводная. Есть ли другое место на Земле, где все так тяжко человеку, где растрескавшаяся земля кажется мертвой, а от невыносимой жажды сохнут даже глаза. Запасы воды кончились. А степной ветер не унимается, обдает жаром, словно от костра. У детей от жажды потрескались губы, они в полузабытьи шепчут: воды, воды. Отчаявшиеся женщины взывают к милости аллаха, они шепчут молитвы. Медленно, с остановками движется караван: падают вагонщики, останавливаются верблюды. И, вдруг на горизонте показалась одинокая гора и невдалеке от нее ослепительно-белое, с голубым береговым шлейфом озеро. Напрягая последние силы, люди прибавили шаг. Но долго еще тянулся этот изнурительный, невыносимый путь. Наконец, вот оно, озеро. Люди кинулись к воде и, набирая пригоршнями, стали взахлеб глотать спасительную влагу. Но что это! О, ужас! Лица людей перекосились, началась неудержимая рвота. Люди в судорогах катались по земле, призывая на помощь аллаха. Пусть будет проклято это несчастное озеро, - прохрипел аксакал, - оно погубило мой род. Он рухнул на землю. Немногие выжили тогда. И бывшие кочевники, потеряв скот, пошли в рабство к солепромышленникам, за пригоршню муки ломать соль в озера. (Записал Г.Моторин, 1950г.) А вот как описывается путь кочевников к Баскунчакскому озеру в страшное бедствие 1879 года, когда вследствие суровой зимы и жестокой засухи, казахи и калмыки Астраханской губернии и Букеевской орды двинулись в Прикаспийские степи. Был знойный полдень, - начал рассказ старейшина кочевья. Синее небо без единого облачка. Бескрайняя солончаковая степь, желто-бурая, выжженная солнцем. Белоснежными салфетками разбросана по ней выступившая на поверхность соль на бескрайних пространствах грязей – хаки. Кажется, совсем нет жизни в этой степи, с ее сыпучими песками, с растрескавшейся от зноя почвой. Но вот на горизонте появилась черная точка. Она движется, растет, приближается и превращается в длинную линию. Это караваны кочевников, которые в те далекие времена заполняли степи между реками Уралом и Волгой. Мерно покачиваясь, один за другим идут верблюды. Уныло звенят на их длинных шеях колокольчики и нарушают немую тишину. Рядом с верблюдами плетутся усталые, измученные люди в широких восточных одеждах. Их загорелые лица покрыты слоем желтой пыли, распухшие губы потрескались, на них капельки крови. На пестрых подушках среди горбов верблюдов сидят женщины и дети. На лицах матерей – страдание и мука. Дети плачут, язык у них распух. Они потеряли голос, и только едва слышный шепот вырывается из воспаленных уст. -Воды, воды… - Скоро, скоро приедем туда, где будет много воды, - хрипло отвечали им старшие, а сами все пристальней, все чаще всматриваются в дрожащую от зноя даль. Там на западе, среди ровной степи, протянулась огромная темно-фиолетовая гора, похожая на вытянувшегося отдыхающего зверя. У этой горы Спящего льва, - рассказывал на обжитой стоянке старик Кашгар, - я видел несколько озер. Одно из них особенно большое. Давно это было, еще когда я был молод. Близко к озерам я не подъезжал: был один, а кругом кишили ядовитые змеи. В низинах: близ озер, я видал много серебристого ковыля, много терна и шиповника. А в большом озере, наверно, много рыбы. Там мы вдоволь напьемся пресной воды, раскинем кибитки и остановимся на отдых. Много томительных дней прошло с тех пор, как Кашгар, старик с пергаментным лицом и черными бровями, говорил эти слова. Это было на старом кочевье. У пересохшего ручейка, когда старики совещались, куда им ехать, где им искать новой воды и травы. И решили ехать к озеру у горы Спящего льва. Радостен был день, когда тронулись в путь. В воздухе стоял неумолкаемый шум, громкий говор, визгливые песни женщин, веселые крики детей. Далеко разносилось щелканье бичей. За караваном гнали коров, овец, лошадей. Но на другой день поднялась сильная пыльная буря и часть коров и овец погибли. Зной и ветер высушили жалкие запасы воды, которые кочевники взяли с собой. Старик Кангар успокаивал всех. -Не успеет солнце высоко подняться над землею, как мы будем у колодца. Он не велик. Но и скота у нас не много. Нам хватит. Чтобы утолить жажду, а затем двинемся дальше. Но оказалось, что колодец высушен зноем и засыпан песком. И люди, и животные испытывали нестерпимые муки жажды. Они раскопали колодец, брали в рот влажный песок, стремились высосать хоть немного живительной влаги. Умерло много детей, пали последние овцы. Измученные люди отправились дальше. Долог и труден был их путь. Даже терпеливые, выносливые верблюды едва двигались, спотыкаясь, останавливались на каждом шагу. На переднем верблюде ехала Альмангуль, держа на руках своего первенца, трехлетнего сына Мункара. Его отец Тимурленд все время убегал от каравана в степь, рыскал, как волк, отыскивая слабосладкие, хорошо утоляющие жажду ягоды степной малины. Вот, наконец, он увидел целое поле кудрявых кустарников. Но, увы, ягод на них почти не было, - ими уже полакомились лисы и суслики. Нашел Тимурленд только пять ягодок и бросился со своей добычей вслед уходящему каравану. Ребенок с наслаждением высосал сок из ягод и, приоткрыв черные глазки, прохрипел: -Еще пить… -Еще, еще иди найди, -умоляюще шептала молодая мать. Тимурленд опять помчался в степь, опять шарил по низинам и провалам, но все поиски были безуспешны. Только яркими пятнами краснели жирные, сочные солянки. А когда он все же нашел, наконец, несколько ягодок малины, маленький Мункар уже не мог сосать воспаленными губами. Вдруг крик радости разнесся по всему каравану. Люди увидели оазис: в кольце гор, среди высоких, темных деревьев, лежало прозрачное, как хрусталь, озеро. -Скорее, скорее, - в исступлении кричали матери. -Скорее, - вторили им мужчины. -Опомнитесь, - раздался вдруг голос старика, - замолчите! -Я вам говорю, - это видение, мираж. Здесь нет таких гор и лесов… -Посмотрите лучше на гору Спящего льва. Она уже близко. И, правда, видение скоро исчезло. -Воды, воды, - умирает мой сын, - шептала точно в забытье Альмангуль. -Смерть ждет нас, - в отчаянии кричали женщины, -зачем выбирали этот путь? Никто не ответил, никто не ждал спасения, и не смотрел больше на гору Спящего льва. Только старик с пергаментным лицом не упускал ее из виду. И вот когда солнце уже стало склоняться к западу, он, привстав на горбе верблюда, замахал руками и зашевелил пересохшими руками. -Вода, - скорее догадались, чем услышали окружающие. Как на ладони, лежали перед ними гора Спящего льва и вблизи нее огромное озеро. -Это опять видение, мираж,- сомневались некоторые. Старик хрипел, задыхаясь от волнения. -Настоящее озеро, настоящая гора… Я видел их, когда был еще молодым. Радостный гул пронесся над караваном, помертвевшие лица оживились, на них заиграли улыбки счастья. Шаги мужчин стали тверже, раздались уже давно умолкнувшие окрики погонщиков. И только верблюды, всегда чуявшие и спешившие к воде, теперь как будто потеряли этот инстинкт. Они совсем не спешили к озеру. А оно все ближе и ближе. Видны уже высокие обрывистые берега. Вот озеро совсем уже близко, спокойно, неподвижное, молочно-голубое в лучах яркого солнца. И так манит к себе. Но почему же верблюды не спешат к нему? Мужчины, забыв о женщинах и детях, бросились на колени и прильнули ртом к прозрачной воде. И вдруг судорога отвращения и ужаса исказила их лица: вода оказалась соленой. Как раненый зверь, заметался у озера Тимурленд. -Умирает наш сын, - шептала помертвевшая Альмангуль. Порыв отчаяния охватил всех кочевников. Плакали, скрежетали зубами, катались по земле. -Да будет проклято это огромное голубое озеро, - прохрипел старик Кашгар, - пусть будут одиноки и пустынны его берега. Пусть птица не летит над ним и зверь не бежит мимо него. Но в это время, как люди в бессилии проклинали озеро, верблюды вдруг вытянули шей и стали усиленно втягивать ноздрями воздух. Они всегда так делали, когда чуяли пресную воду. Шатаясь, как больной, Тимурленд, подхлестнул своего верблюда, а затем дал ему полную свободу. Животное повернуло в сторону и быстро, почти вскачь, припустило на север. За ним последовали другие верблюды. Вскоре заблестело на солнце другое озеро. Верблюды с ревом мчались к нему. И маленький кочевник, сын Тимурленда, остался жив. Был спасен и весь караван. Соленое же озеро, гласит древняя легенда, с тех пор, как было проклято, стало мертвым: птица не летит над ним, и зверь не бежит мимо него. Одни лишь ядовитые змеи перевиваются в клубки, да мохнатый хищник-тарантул тщетно ищет себе добычи (С.Лялицкая. Озеро Баскунчак. Сталинград, 1941г.). Соль издавна в России и других странах ценилась дорого. В сказках и легендах, соль воспевается, как самое ценное достояние. -------------------- Однажды ученик спросил у Мастера:
– Долго ли ждать перемен к лучшему? – Если ждать, то долго, ответил Мастер.  what goes around, comes around. "Всякий слышит лишь то, что понимает" ПЛАВТ, (III в. до н.э.) |
Сообщения в этой теме
 Лео байки 29.03.2015, 13:59
Лео байки 29.03.2015, 13:59
 Лео Астрахань. Башня астронома
Напротив издательства ... 29.03.2015, 14:01
Лео Астрахань. Башня астронома
Напротив издательства ... 29.03.2015, 14:01
 Лео Легенда о названии города Астрахань
«Кипчакское х... 29.03.2015, 14:10
Лео Легенда о названии города Астрахань
«Кипчакское х... 29.03.2015, 14:10
 Лео Единственная во всей Прикаспийской низменности све... 29.03.2015, 14:14
Лео Единственная во всей Прикаспийской низменности све... 29.03.2015, 14:14
 Лео Отчего моря стали солеными
Было это в стародавние ... 29.03.2015, 14:27
Лео Отчего моря стали солеными
Было это в стародавние ... 29.03.2015, 14:27
 Лео Кизляр Астраханский край
В некотором царстве, в н... 29.03.2015, 14:30
Лео Кизляр Астраханский край
В некотором царстве, в н... 29.03.2015, 14:30 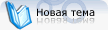 |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0 -
Сейчас: 25th January 2026 - 15:25 |
Copyright Mivmeste.Com 2006-2026
Перепечатка материалов в интернет-изданиях разрешена только с сохранием неизменного вида материала, с указанием автора и гиперссылкой на источник.
Русская версия IP.Board v2.3.6 © 2026 IPS, Inc.
Перепечатка материалов в интернет-изданиях разрешена только с сохранием неизменного вида материала, с указанием автора и гиперссылкой на источник.
Русская версия IP.Board v2.3.6 © 2026 IPS, Inc.








